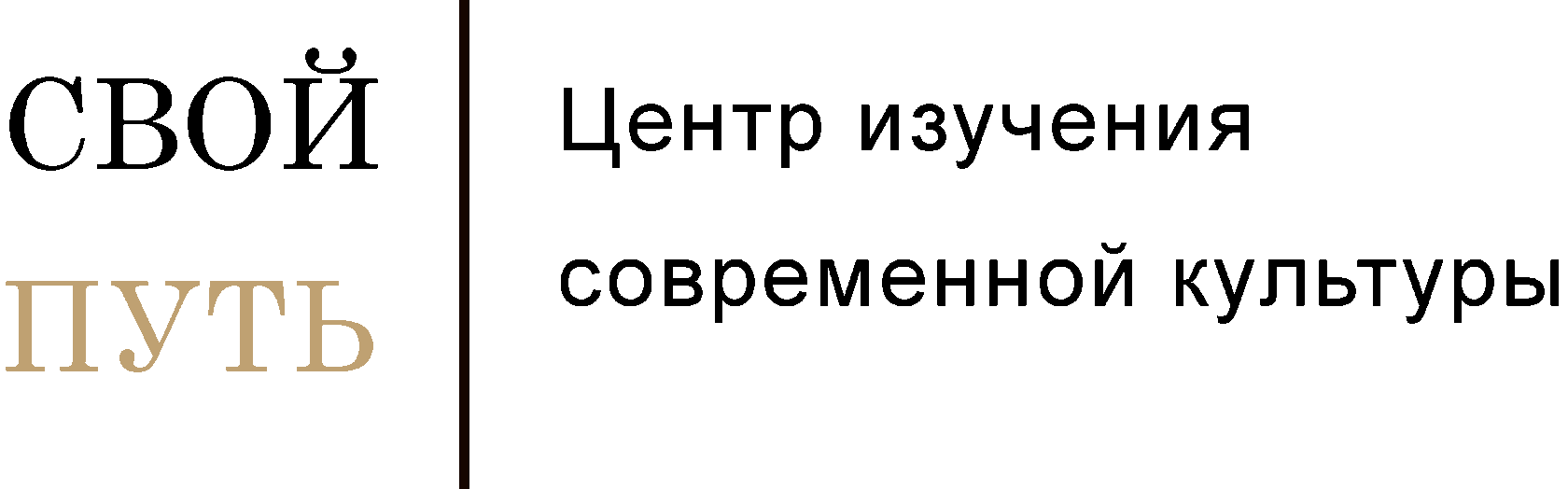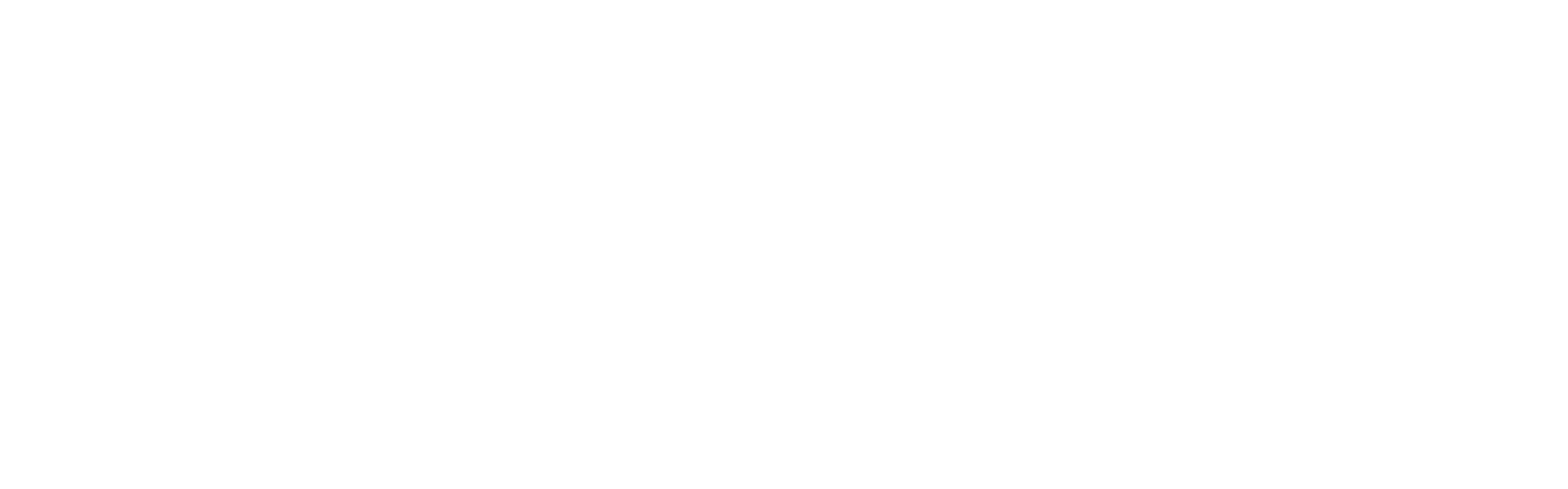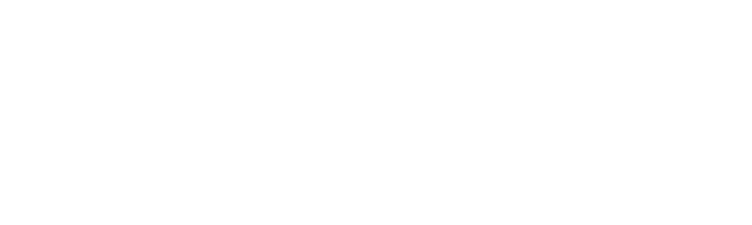
Информация о наборе в группу
Расписании мероприятий
Исследованиях
Расписании мероприятий
Исследованиях
Оставьте Ваш вопрос, мы ответим Вам в ближайшее время.
Постковидное пробуждение
Биеннале современного искусства «Milk of Dreams», Венеция 2022
Биеннале современного искусства «Milk of Dreams», Венеция 2022
«Мой сон окутан был
Туманом грез…»
Джон Китс «Ода праздности»
Поразительно четкая и прямолинейная Венецианская биеннале 2022 – манифест позднепандемической материальной культуры, собранный по канонам современных арт-институций. Это настоящий триумф феминизма и критического постгуманизма в исполнении итальянского куратора Чечилии Алемани. Никаких иерархий, человек унасекомлен (см. Кафку) и обезглавлен (см. стеклянные скульптуры Андры Урсуты, копирующие тело автора). Природа обступает со всех сторон (гигантский слон Катарины Фич, растения, свисающие со стен как самостоятельные экспонаты).
Свой венецианский проект Алемани назвала «Milk of Dreams» (Молоко сновидений), позаимствовав название у детской книжки, которая начинается так: «У одного мальчика вместо ушей были крылья. Он выглядел странно». Книжку сочинила и проиллюстрировала художница-сюрреалистка Леонора Каррингтон. В коротких рассказах она создала целую галерею причудливых гибридных существ. Таким же гибридом является и Венецианская биеннале.
Множество инсталляций, обилие видео-арта, минимум живописи и традиционной скульптуры, почти нет гетеросексуальной фотографии – выставка оставляет глубокое впечатление, не будучи эстетически приятным зрелищем. В ней нет благостной успокоенности, она приглашает подумать и поспорить.
Первая после ковидной эпидемии, биеннале консолидирует несколько трендов: телесные превращения, симбиоз человека с технологиями и с природой – все арт-объекты и инсталляции об этом. Человеческие образы, привычные каноны и иерархии подвергаются трансформациям и мутациям. Это художественные грезы наяву о новом человеке в гармоничном мире, но без мечты. Конечная цель обновления и гармонии не понятна. Центральная идея – вполне постгуманистское молочное сновидение – гармонизация внешнего и внутреннего при сохранении индивидуальности, которая выражена цвете и форме татуировки.
В одном с Алемани и выбранными ею авторами точно можно согласиться - проект ubermensch у человечества не получился. А раз так, утверждает постгуманистическое искусство, человек должен отказаться от своей исключительности, реализуемой в ущерб всему живому. Почему это требует казни существующего типа человека, не совсем понятно. По сути, предлагается нас расчеловечить, превратить в материю, а потом из нее заново собрать человека – усовершенствованного через гибрид с машиной и технологиями. Он и будет жить в гармонии с Природой. Как, например, девушка-сфинкс на картине Джейн Грейверол, бельгийской сюрреалистки. Голова и руки у персонажа на полотне женские, шея, тело, хвост – кошачьи по форме, но механические по виду, и такие же крылья. В глазах у нее отстраненность и печаль. Вероятно, из-за недостатка гармонии.
На биеннале стоит пойти в компании приятелей, которые умеют внимательно смотреть и аргументированно спорить об искусстве. Неоднозначность и провокативность представленного дает поле для дебатов. Так, например, в этом году во французском павильоне под названием «Dreams Have no Titles» (У сновидений нет названий) устроили съемочную площадку и киностудию. При входе в павильон – кафе с недопитыми бокалами вина на столиках, на барной стойке приемник, из которого несется музыка. Откуда-то из-за перегородки слышны обрывки разговора. Не сразу понимаешь, где оказался – это кафе или часть экспозиции? Дальше – монтажная мастерская, гримерка и комната с реквизитом. Да, какая тут смерть автора! Авторская харизма размером с павильон буквально растворяет зрителя – он становится объектом, включаясь в игру, в которой реальность и иллюзия спорят друг с другом.
Женское авторство в этом году доминирует: молоко сновидений будто растекается по выставке, естественно, из женского тела, аллюзии к частям которого можно увидеть почти в каждом зале. Лично мне чужд этот комплекс - самоатрибуции к разряду меньшинства по половому признаку. Зачем? Это как-то отражается на продукте художественного творчества? Искусство не имеет пола.
Биеннале – это, конечно, пространство для постчеловека и рассказ о нем. Сама идея конструирования человека заново – весьма дерзкая. Если вспомнить, что символ Венеции, лев, одновременно является эмблемой апостола Марка, то такая богоборческая заявка в Венеции как минимум представляется неуместной. Да и кто смог бы выступить творцом, демиургом? Другой такой же не очень совершенный человек? Видимо, надо внимательно читать Брайдотти, Харман, Феррандо и прочих феминсток-постгуманисток, чтобы разрешить это недоумение. Одно ясно: человеческая субъективность теперь воспринимается как навязчивая химера, которую надо изжить на идейном уровне, как и внутривидовой человеческий эгоизм. На наших глазах исчезает определенный тип личности, родившийся на заре Нового времени. Он, «тростник мыслящий», опозорился в бытийственном отношении и свою исключительность, оправдывающую место во главе живой иерархии, продал за чечевичную похлебку. И что же – за это голову ему долой? Не слишком ли категоричный приговор?..
Да и кто таков – постчеловек? Что он из себя представляет и к чему призван, кроме молочных снов и daydreaming? О чем он мечтает? Или человека совсем не осталось – есть либо туловище без головы (скульптура Андры Урсуты), либо черные, словно обугленные, мятые фигурки Симоны Фатталь, похожие на мутантов Джакометти. Рози Брайдотти рассуждает на эту тему в своей книге «Постчеловек», но ответов не дает. На ее тексты ссылается Алемани в своей вступительной статье к каталогу «Молока сновидений», ими она руководствовалась, подбирая экспонаты для выставки.
Не стоит ожидать от себя мгновенного включения в пространство смыслов биеннале. Без предварительного знакомства с идеями постгуманизма представленные на выставки композиции и арт-объекты понять трудно. Но в них можно погрузиться и даже забыться. Таков французский павильон, о котором было сказано раньше. Такова композиция Прешес Окоймон размером с павильон «Увидеть Землю перед концом света» с воссозданным природным ландшафтом и идолами из натуральных материалов. Тут и человеческие фигуры с разными затейливыми названиями, у которых уже не просто нет лиц, как в произведениях экспрессионистов, - у этих даже головы отсутствуют или вместо головы приделана поварешка.
Биеннале хороша не только тем, что раскрывает тему в пределах заявленной философской концепции, но и тем, что отвечает современной действительности. Она объективно правдива, лаконична: люди без лица и без головы погрузились в инфантильный сон, хотя вокруг война и хаос, воздух взрывается сиренами. Наше время – время поиска, и выставка хороша для него. Она ставит вопросы, но не дает ответов. Художники предлагают не просто отражение реальности, но имитацию жизненных ситуаций, предлагает зрителю включиться и пережить их опытно (звук, объем, запах, свет, огонь). Например, звуки воздушной тревоги в инсталляции Жанны Кадыровой «Паляныця». Или падающие в темноте снопы огня – символы ядовитых выбросов в атмосферу. А зрители (и я в их числе) бродят по выставке и глазеют на всю эту небывальщину. Вместо того, чтобы собраться, рассеиваются еще больше и сами превращаются в гумус.
Очень много веса придается интерпретации: художник больше не отражает мир, он его интерпретирует в зависимости от своей культуры и мировоззрения. Выходцы из Африки не могут забыть хижины своих деревень, и не потому ли крыша американского павильона на биеннале покрыта соломой? Выходцы с Ближнего Востока создают концептуальные скульптуры, повторяя образ глиняных горшков и примитивных первобытных фигурок. И зритель обращает внимание прежде всего на интерпретацию, а не на реальность, которой он может и вовсе не знать. Ницше когда-то положил этому начало, сказав, что фактов нет, есть только их интерпретация. В нашем мире постправды этот лаконичный приговор реальности стал девизом.
У меня выставка вызвала детский восторг перед небывалым. Разглядывая причудливые экспонаты, я тихо млела, ибо они предавали моей заурядной и скупой на события жизни первобытное, даже волшебное очарование. Источник этой радости, конечно, чувственный, нерациональный. Но ценности ее это не умаляет. Заметив знакомые идеи, я радуюсь – неужели у меня списали!
Чтобы понять сложность современного мира и оценить, насколько предъявленное на выставке отражает эту слодность, сегодня надо владеть целой суммой знаний, как новый Фома Аквинский. Я же многое не могу ни понять, ни представить, как квантовую механику. Приходится воспринимать увиденное не умом, а чувствами. Интуитивно распутывать нить автора; как Пенелопа, распускать все сотканное им и так добираться до смысла. Жаль, что некоторые художники ничего, по существу, не предлагают, лишь предъявляют какое-то жизненное безобразие – дескать, вот до чего дожили. Тогда зрителю остается либо фыркнуть и отойти, либо восхититься безобразием и сигануть в бездну вслед за автором. Как например, пугающие гигантские восковые кровавые массы – работы Аниша Капура в палаццо Манфрин или постапокалиптические работы Ансельма Кифера в парадном зале Дворца дожей. Стертая в грязный коричневый порошок цивилизация Кифера, болотистая поверхность и угрожающе прекрасное сияние неба после катастрофы, цинковый гроб, остатки одежды и обуви, золотая лестница в небо. Все это не сочетается с историческими интерьерами дворца. Такой диссонанс, вероятно, создан намеренно – чтобы усилить впечатление.
Понятно, что постгуманизм – это мейнстрим. Но почему беиннале стала продуктом лишь этих взглядов? А как же всемирный смотр современного искусства? Ну, зачем нам предъявлять безобразие. Мы и сами его заметим, если не анахоретствуем где-то в лесу или пустыне. На идейном уровне – как с этим быть? Биеннале и ее идеологи предлагают принять несовершенство как данность. Дескать, мы такие, наш проект человека не удался. Поэтому давайте сольемся с машинами на природе и это поправит дело. А, может быть, не лишать человека головы, а поставить ее на место? Но для этого придется вернуть форму, лицо. Не пугаться, глядя в пустые глаза, вспомнить о некой заданности жизни и необходимости себя докрутить до более или менее достойного состояния. Ни Брайдотти, ни Алемани, ни авторы работ на биеннале не говорят о конечной цели трансформации, достоинстве «текучей идентичности». Ответа на вопрос «зачем» нет, и даже вопрос так не ставится.
С идейной точки зрения «Молоко сновидений» представляется полусном инфантильного человека, который ужаснулся от себя и мира, и спешит забыться в сновидениях. Здесь в Венеции, где рядом с Джардини и Арсенале расположены галереи Академии, палаццо Дукале с полотнами мастеров Возрождения, как нигде становятся очевидны перемены – переход от гуманизма к постгуманизму, от человека к постчеловеку. И соседство двух реальностей – дикие полотна Ансельма Кифера в палаццо Дукале рядом с шедеврами мастеров Возрождения – уже воспринимается как экстравагантное кураторское решение.
И все же - причем здесь сновидения? Инклюзивность завораживает, она опасна. Главное, не проспать собственную фасцинацию бездной и не свалиться туда, вовремя проснувшись.
Анна Навашина
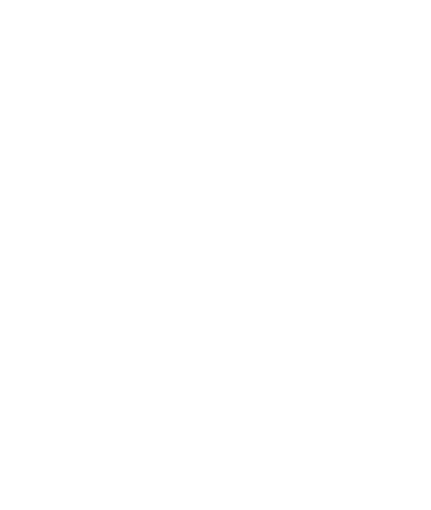
Давид Бурлюк. Американские рабочие.
Вся американская цивилизация как будто направлена на то, чтобы помочь ему в этом. Жизнь в обществе устроена так, чтобы человек никогда с этой тайной не встретился лицом к лицу. Нельзя сказать, что американец – человек толпы. Напротив, их цивилизация построена на индивидуализме. Она как бы обращена к каждому, но она говорит ему: смотри, как тебе хорошо и комфортно, как все сделано для ТЕБЯ. И каждый ее принимает индивидуально, ДЛЯ СЕБЯ, но в пределах общих стереотипов образа мысли и действия. Как утренний ритуал в «Старбаксе»: выбрал кофе из длинного списка – самореализовался, и весь мир подождет. Задал дежурный вопрос и побежал дальше, не выслушав ответа. Так каждый репрессирует тайну в себе и не замечает ее в другом. Успех психоанализа в Америке, видимо, происходит от страстного желания свести тайну к формуле, к закону природы, к ритуалу. Американец страшно благодарен науке за готовое объяснение, которое освобождает его от необходимости искать себя и разгадывать свою тайну.
Нельзя сказать, что американец очень поверхностный человек. Нет, он также глубок, как и все другие люди. Только, в отличие от других он не хочет этой глубины, боится и ненавидит ее. Отчего это? Может, на американской почве претворился опыт первобытного человека, боящегося всего чужого? В университетах регулярно проходят этнические вечеринки – ритуальный поклон в сторону чужой культуры. Тут и традиционная еда, и костюмы, и национальная музыка. Но все это не столько про американский интерес к другой культуре, сколько про ее инаковость американской. Чувствуется безразличие к тайне «другого», увлечение лишь внешней экзотикой. Эта модель поведения транслируется вновь прибывшим переселенцам. Да, Америка приняла много разных народов в свои объятья, но все они на ее почве существуют неслиянно и нераздельно. Селятся общинами, живут своей жизнью – вроде бы и рядом, но не вместе. Семьи народов здесь, похоже, не получилось.
Может быть, причина состоит в каком-то первобытном страхе американца перед громадой мира, таинственностью природы, инаковостью других народов. С этим страхом он справляется при помощи ритуала, повторяемости. Америка, как религия, преодолевает страх жизни обрядом, то есть такой сакральной символизацией мира, природы, жизни, которая снимает тайну, «разряжает» ее, освобождает от проблемы единственности и неповторимости всего. А это – упрощение, выталкивание себя на мелководье, в однообразие и ритуальные повторы. Обрядовость делает американскую жизнь насквозь мифологизированной. Это уже настоящая архаика! Даже глубже, это некая разновидность демонической сакральности, которая несет человеку не мир и покой, а страх и трепет. Отсюда и основное движение американской культуры - «бегство от». Американец бежит от обыденности, от неудобных отношений, от неприятных мыслей и от всего, что ему не нравится. В пределе – он бежит от себя, своей глубины и тайны из страха перед ними. Ритуал для американца заменяет живую жизнь, встретиться с которой у него не хватает смелости. Боязнь новизны в нем конфликтует с ее жаждой. Вот тут и выскакивает американский «дыр бул щил»: во-первых, дерзкое новаторство как основной вектор личного движения, а во-вторых, чтобы изменения не вызывали страха, их вводят в ритуал, сделав таким образом «не страшными». Новые формы и опыты жизни получают свои ярлыки и укладываются в обряд. Например, вино с сыром уже не просто смакуются, как у французов, но становятся поводом для «wine & cheese party». Американец прежде всего ищет не вкуса, а исполнения обряда. И это отличает его от француза.
«Дыр бул щил» - дерзкие пять строк Алексея Крученых, символ бурной эпохи начала ХХ века с ее жаждой новизны. В наше время этот символ ожил в американской версии зауми – Google-Meta-Apple вселенной и той цивилизации, которую ее создатели распространили глобально через свои культурные продукты. В этом смысле американцы действительно колеблют мировые струны. Но дерзость их – сродни дерзости Крученых. Она не спасает их от страха перед глубиной и сложностью жизни, которую нельзя освоить по формулам или в ритуале. Сегодня это «бегство от тайны», от встречи с собой и прочая ложь приобрели масштабы пандемии. Мы все стали полагать между собой и тайной жизни какие-то ритуалы. Например, сидим в компании или дома в семье, уткнувшись в свои телефоны, - вроде бы мы все рядом, но не вместе. Теперь это уже не просто «рассказ об американцах», а пересказ самого себя. По существу, это тот же отрыв культуры от жизни и нас самих от себя.
А. Навашина