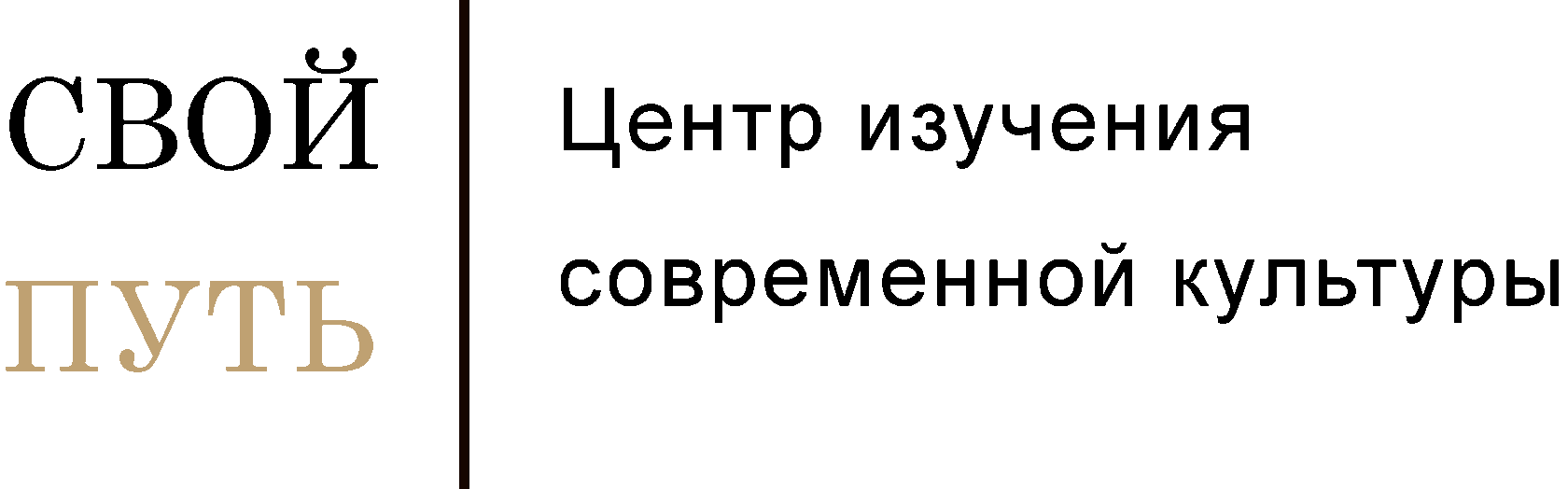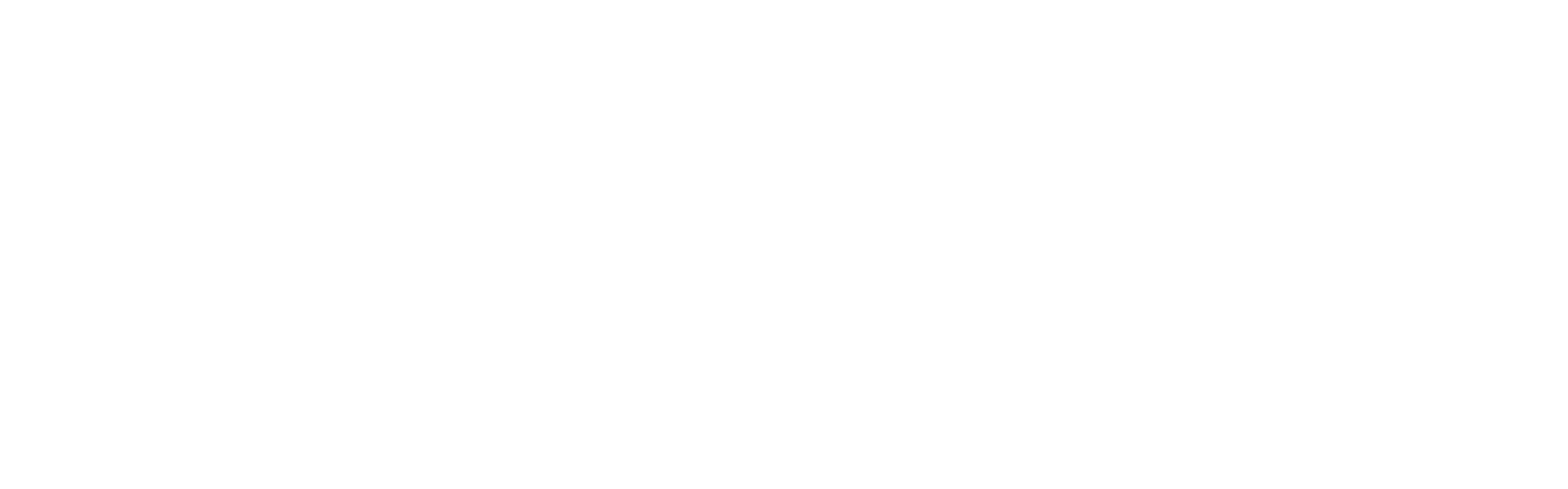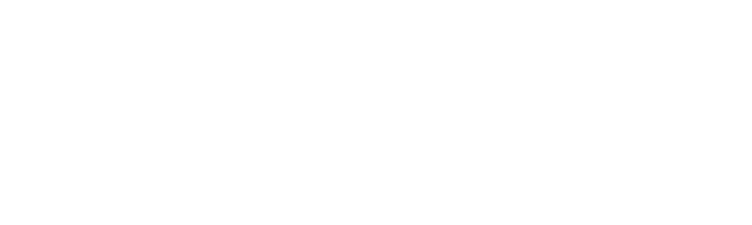
Информация о наборе в группу
Расписании мероприятий
Исследованиях
Расписании мероприятий
Исследованиях
Оставьте Ваш вопрос, мы ответим Вам в ближайшее время.
Болдинское чудо
Болдинская осень – знакомое с детства словосочетание, синоним вдохновения и творческого подъема. Не знаю, останется ли оно для кого-то лишь заученным штампом из школьной программы или станет искомым состоянием души.
Болдино для нас – это осень. А Болдинская осень – это Пушкин и его дом, родовое поместье в Болдине, принадлежавшее семье отца поэта с XVI века. Мы же все – родом из Пушкинского Дома.
Пушкина просто необходимо знать для себя. Как здорово, что мы еще можем успеть его почитать. Все, что мы сможем к этому добавить, это и будем мы. В Болдино нужно торопиться – зачерпнуть энергии, проникнуться болдинским духом и опытом гения.
Я давно сюда стремилась… И как-то сюжет жизни меня сюда не допускал, по разным причинам. Может быть, надо было заслужить эту поездку и воспринять ее как награду? Некоторая печаль входила в состав моего ожидания. И вот, этой неспокойной осенью наконец случилось мое Болдинское чудо.
«В ожидании осени…» - последняя книга Андрея Битова, автора «Пушкинского Дома», «тома», пушкиниста по призванию и всему своему составу. В этой книге Битов рассказывает о трех «побегах» Александра Сергеевича в Болдино, трех настоящих творческих взрывах, сравнимых с чудом. Первый – осенью 1830, когда каждый день из-под его пера выходило новое произведение. Это было чудо первой Болдинской осени. Александр Сергеевич дописал все ранее задуманное и закончил незаконченное – «Маленькие трагедии», «Каменный гость», «Станционный смотритель», «Повести Белкина»… За три месяца он создал столько, что для другого гения потребуется, может быть, вся жизнь. Не каждому удается прожить так, чтобы успеть сделать все!
Пушкин напишет потом: «На свете счастья нет…». Я думаю: а разве он не был счастлив у себя в Болдино? Здесь, почти двести лет назад? Это и было счастье, может быть, выше которого и нельзя вообразить, и нельзя пожелать кому бы то ни было. Такое вдохновение среди печалей и затруднений – настоящее чудо!
Сегодня Болдино можно сравнить с «глазом бури» - островком тишины и покоя в сердцевине тайфуна, бури безумия. Темой безумия проникнута вторая осень поэта в Болдине, когда он удирает из Петербурга от наводнения. Он пишет «Не дай мне Бог сойти с ума», «Медного всадника» и «Пиковую даму». Какое «ухо» было у той эпохи! Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, безверия и веры нормализовал пушкинский текст.
Да, «бывают странные сближенья»…
Нынешняя осень в Болдине – это тоже чудо. Чудо тишины в этом мире – господский дом Пушкиных, пруды, мостик, многовековые деревья родом из XIX века, которые помнят хозяев усадьбы и самого поэта. И чудо уплотненного смыслом воздуха, он обостряет проблему выбора, напоминая о небесплатности любого предложения и выигрыша, о расплате. Для кого-то нынешняя Болдинская осень – это ожидание каких-то перемен или побег, попытка преодолеть себя и неизбежность ненаписанного, для кого-то – просто экскурсия в музей. Но Болдинский дух неизменно проникает в каждого и будоражит по-своему. Он будто спрашивает, «не найдется ли между нами Ноя, для насаждения винограда?»
Болдино для нас – это осень. А Болдинская осень – это Пушкин и его дом, родовое поместье в Болдине, принадлежавшее семье отца поэта с XVI века. Мы же все – родом из Пушкинского Дома.
Пушкина просто необходимо знать для себя. Как здорово, что мы еще можем успеть его почитать. Все, что мы сможем к этому добавить, это и будем мы. В Болдино нужно торопиться – зачерпнуть энергии, проникнуться болдинским духом и опытом гения.
Я давно сюда стремилась… И как-то сюжет жизни меня сюда не допускал, по разным причинам. Может быть, надо было заслужить эту поездку и воспринять ее как награду? Некоторая печаль входила в состав моего ожидания. И вот, этой неспокойной осенью наконец случилось мое Болдинское чудо.
«В ожидании осени…» - последняя книга Андрея Битова, автора «Пушкинского Дома», «тома», пушкиниста по призванию и всему своему составу. В этой книге Битов рассказывает о трех «побегах» Александра Сергеевича в Болдино, трех настоящих творческих взрывах, сравнимых с чудом. Первый – осенью 1830, когда каждый день из-под его пера выходило новое произведение. Это было чудо первой Болдинской осени. Александр Сергеевич дописал все ранее задуманное и закончил незаконченное – «Маленькие трагедии», «Каменный гость», «Станционный смотритель», «Повести Белкина»… За три месяца он создал столько, что для другого гения потребуется, может быть, вся жизнь. Не каждому удается прожить так, чтобы успеть сделать все!
Пушкин напишет потом: «На свете счастья нет…». Я думаю: а разве он не был счастлив у себя в Болдино? Здесь, почти двести лет назад? Это и было счастье, может быть, выше которого и нельзя вообразить, и нельзя пожелать кому бы то ни было. Такое вдохновение среди печалей и затруднений – настоящее чудо!
Сегодня Болдино можно сравнить с «глазом бури» - островком тишины и покоя в сердцевине тайфуна, бури безумия. Темой безумия проникнута вторая осень поэта в Болдине, когда он удирает из Петербурга от наводнения. Он пишет «Не дай мне Бог сойти с ума», «Медного всадника» и «Пиковую даму». Какое «ухо» было у той эпохи! Безумие Петра и Петербурга, власти и стихии, государства и личности, безверия и веры нормализовал пушкинский текст.
Да, «бывают странные сближенья»…
Нынешняя осень в Болдине – это тоже чудо. Чудо тишины в этом мире – господский дом Пушкиных, пруды, мостик, многовековые деревья родом из XIX века, которые помнят хозяев усадьбы и самого поэта. И чудо уплотненного смыслом воздуха, он обостряет проблему выбора, напоминая о небесплатности любого предложения и выигрыша, о расплате. Для кого-то нынешняя Болдинская осень – это ожидание каких-то перемен или побег, попытка преодолеть себя и неизбежность ненаписанного, для кого-то – просто экскурсия в музей. Но Болдинский дух неизменно проникает в каждого и будоражит по-своему. Он будто спрашивает, «не найдется ли между нами Ноя, для насаждения винограда?»
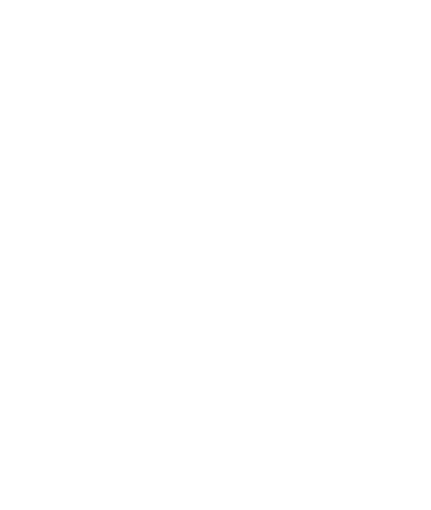
Давид Бурлюк. Американские рабочие.
Вся американская цивилизация как будто направлена на то, чтобы помочь ему в этом. Жизнь в обществе устроена так, чтобы человек никогда с этой тайной не встретился лицом к лицу. Нельзя сказать, что американец – человек толпы. Напротив, их цивилизация построена на индивидуализме. Она как бы обращена к каждому, но она говорит ему: смотри, как тебе хорошо и комфортно, как все сделано для ТЕБЯ. И каждый ее принимает индивидуально, ДЛЯ СЕБЯ, но в пределах общих стереотипов образа мысли и действия. Как утренний ритуал в «Старбаксе»: выбрал кофе из длинного списка – самореализовался, и весь мир подождет. Задал дежурный вопрос и побежал дальше, не выслушав ответа. Так каждый репрессирует тайну в себе и не замечает ее в другом. Успех психоанализа в Америке, видимо, происходит от страстного желания свести тайну к формуле, к закону природы, к ритуалу. Американец страшно благодарен науке за готовое объяснение, которое освобождает его от необходимости искать себя и разгадывать свою тайну.
Нельзя сказать, что американец очень поверхностный человек. Нет, он также глубок, как и все другие люди. Только, в отличие от других он не хочет этой глубины, боится и ненавидит ее. Отчего это? Может, на американской почве претворился опыт первобытного человека, боящегося всего чужого? В университетах регулярно проходят этнические вечеринки – ритуальный поклон в сторону чужой культуры. Тут и традиционная еда, и костюмы, и национальная музыка. Но все это не столько про американский интерес к другой культуре, сколько про ее инаковость американской. Чувствуется безразличие к тайне «другого», увлечение лишь внешней экзотикой. Эта модель поведения транслируется вновь прибывшим переселенцам. Да, Америка приняла много разных народов в свои объятья, но все они на ее почве существуют неслиянно и нераздельно. Селятся общинами, живут своей жизнью – вроде бы и рядом, но не вместе. Семьи народов здесь, похоже, не получилось.
Может быть, причина состоит в каком-то первобытном страхе американца перед громадой мира, таинственностью природы, инаковостью других народов. С этим страхом он справляется при помощи ритуала, повторяемости. Америка, как религия, преодолевает страх жизни обрядом, то есть такой сакральной символизацией мира, природы, жизни, которая снимает тайну, «разряжает» ее, освобождает от проблемы единственности и неповторимости всего. А это – упрощение, выталкивание себя на мелководье, в однообразие и ритуальные повторы. Обрядовость делает американскую жизнь насквозь мифологизированной. Это уже настоящая архаика! Даже глубже, это некая разновидность демонической сакральности, которая несет человеку не мир и покой, а страх и трепет. Отсюда и основное движение американской культуры - «бегство от». Американец бежит от обыденности, от неудобных отношений, от неприятных мыслей и от всего, что ему не нравится. В пределе – он бежит от себя, своей глубины и тайны из страха перед ними. Ритуал для американца заменяет живую жизнь, встретиться с которой у него не хватает смелости. Боязнь новизны в нем конфликтует с ее жаждой. Вот тут и выскакивает американский «дыр бул щил»: во-первых, дерзкое новаторство как основной вектор личного движения, а во-вторых, чтобы изменения не вызывали страха, их вводят в ритуал, сделав таким образом «не страшными». Новые формы и опыты жизни получают свои ярлыки и укладываются в обряд. Например, вино с сыром уже не просто смакуются, как у французов, но становятся поводом для «wine & cheese party». Американец прежде всего ищет не вкуса, а исполнения обряда. И это отличает его от француза.
«Дыр бул щил» - дерзкие пять строк Алексея Крученых, символ бурной эпохи начала ХХ века с ее жаждой новизны. В наше время этот символ ожил в американской версии зауми – Google-Meta-Apple вселенной и той цивилизации, которую ее создатели распространили глобально через свои культурные продукты. В этом смысле американцы действительно колеблют мировые струны. Но дерзость их – сродни дерзости Крученых. Она не спасает их от страха перед глубиной и сложностью жизни, которую нельзя освоить по формулам или в ритуале. Сегодня это «бегство от тайны», от встречи с собой и прочая ложь приобрели масштабы пандемии. Мы все стали полагать между собой и тайной жизни какие-то ритуалы. Например, сидим в компании или дома в семье, уткнувшись в свои телефоны, - вроде бы мы все рядом, но не вместе. Теперь это уже не просто «рассказ об американцах», а пересказ самого себя. По существу, это тот же отрыв культуры от жизни и нас самих от себя.
А. Навашина